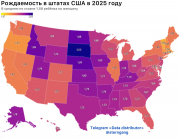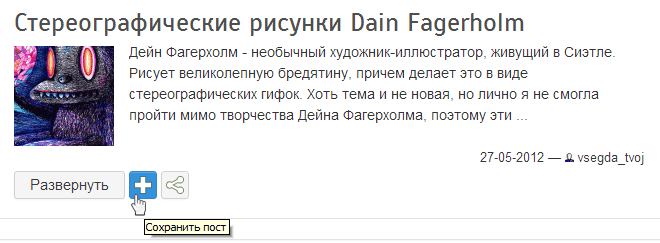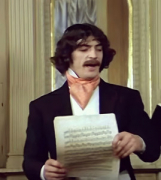
Весенняя лИСтКУССТВенница. Выпуск №3
 elika — 09.04.2025
Теги: Миронов
Козак
Боярский
Рязанов
На сцене премьера «Соломенной шляпки» состоялась 14
августа 1851 года. И было это в парижском театре Пале-Рояль, где
ставились в основном водевили и нехитрые комедии;
драматургом-звездой там считался Эжен Лабиш, и «Шляпка» стала самым
знаменитым его произведением. И с тех пор, уже почти 175 лет, её
ставят и переосмысливают – то в виде оперы (её написал в 1945 году
и впервые поставил в Палермо 21 апреля 1955 года выдающийся
кинокомпозитор Нино Рота), то в виде балета. И, конечно, в виде
фильмов: они снимались во Франции, Германии, Великобритании... Ну,
а в 1974 году режиссёр Леонид Квинихидзе снял свою версию и вошёл в
историю советского кино прежде всего благодаря ей.
elika — 09.04.2025
Теги: Миронов
Козак
Боярский
Рязанов
На сцене премьера «Соломенной шляпки» состоялась 14
августа 1851 года. И было это в парижском театре Пале-Рояль, где
ставились в основном водевили и нехитрые комедии;
драматургом-звездой там считался Эжен Лабиш, и «Шляпка» стала самым
знаменитым его произведением. И с тех пор, уже почти 175 лет, её
ставят и переосмысливают – то в виде оперы (её написал в 1945 году
и впервые поставил в Палермо 21 апреля 1955 года выдающийся
кинокомпозитор Нино Рота), то в виде балета. И, конечно, в виде
фильмов: они снимались во Франции, Германии, Великобритании... Ну,
а в 1974 году режиссёр Леонид Квинихидзе снял свою версию и вошёл в
историю советского кино прежде всего благодаря ей. Конечно,
в фильмографии Квинихидзе было много разных картин – от военных
трагедий («Моабитская тетрадь») и остросюжетных исторических
фильмов («Миссия в Кабуле») до экранизаций Достоевского («Белые
ночи») и Алексея Толстого («Крах инженера Гарина»). Были там и
безумно популярные мюзиклы – «Небесные ласточки», «31 июня», «Мэри
Поппинс, до свидания» (об истории создания некоторых из них мы
ещё наверняка поговорим этой музыкально-фантастической
весной).
Конечно,
в фильмографии Квинихидзе было много разных картин – от военных
трагедий («Моабитская тетрадь») и остросюжетных исторических
фильмов («Миссия в Кабуле») до экранизаций Достоевского («Белые
ночи») и Алексея Толстого («Крах инженера Гарина»). Были там и
безумно популярные мюзиклы – «Небесные ласточки», «31 июня», «Мэри
Поппинс, до свидания» (об истории создания некоторых из них мы
ещё наверняка поговорим этой музыкально-фантастической
весной).Четырёхсерийный «Крах инженера Гарина», например, стал для режиссёра почти катастрофой: критики его буквально разнесли. Журнал «Крокодил» даже опубликовал статью под названием «Крах режиссёра Квинихидзе»: автор Михаил Казовский называл картину «паштетом из романа Толстого», жаловался, что герои похожи на персонажей книги, «как гвоздь на панихиду», инженера Гарина в исполнении Олега Борисова объявил «бледненьким жуликом», который вряд ли мог построить такую хитрую штуку, как гиперболоид. Остальные рецензенты тоже полоскали фильм, и, конечно, для Квинихидзе это было очень болезненно. Следующую картину он решил делать полностью противоположной по духу, и вот это и была «Шляпка».
 Так вот, возвращаясь к «Соломенной шляпке» – это, как вы
наверняка помните, история о рантье Леонидосе Фадинаре, сыгранном
Андреем Мироновым, который планирует выгодно жениться на дочери
богатого садовода с целью расплатиться со своим неподъёмным долгом.
Казалось бы, план обольстительного ловеласа удался, но, внезапно,
главным препятствием на его пути становится лошадь, съевшая по пути
соломенную шляпку некоей посторонней мадам. Как ни странно, одно
это маленькое событие оборачивается целым приключением для
Фадинара, после которого он может уже и не приехать на собственную
свадьбу.
Так вот, возвращаясь к «Соломенной шляпке» – это, как вы
наверняка помните, история о рантье Леонидосе Фадинаре, сыгранном
Андреем Мироновым, который планирует выгодно жениться на дочери
богатого садовода с целью расплатиться со своим неподъёмным долгом.
Казалось бы, план обольстительного ловеласа удался, но, внезапно,
главным препятствием на его пути становится лошадь, съевшая по пути
соломенную шляпку некоей посторонней мадам. Как ни странно, одно
это маленькое событие оборачивается целым приключением для
Фадинара, после которого он может уже и не приехать на собственную
свадьбу. На
главную роль Квинихидзе собирался пригласить всё того же Олега
Борисова, но тот сниматься не смог. Конечно, Борисов мог сыграть
всё что угодно, в том числе музыкальную комедию (вспомним хотя
бы «За двумя зайцами»!), но Андрей Миронов, пришедший ему на
замену, пожалуй, даже лучше вписался в роль блудливого и
обворожительного Леонидаса Фадинара. Именно с такими жуирами он для
многих и стал ассоциироваться после выхода фильма. Для него, как и
для остальных актёров, съёмки «Соломенной шляпки» были самым
настоящим праздником. Квинихидзе позволял артистам свободно
импровизировать, и с каждым днём фильм всё дальше уходил от
сценария.
На
главную роль Квинихидзе собирался пригласить всё того же Олега
Борисова, но тот сниматься не смог. Конечно, Борисов мог сыграть
всё что угодно, в том числе музыкальную комедию (вспомним хотя
бы «За двумя зайцами»!), но Андрей Миронов, пришедший ему на
замену, пожалуй, даже лучше вписался в роль блудливого и
обворожительного Леонидаса Фадинара. Именно с такими жуирами он для
многих и стал ассоциироваться после выхода фильма. Для него, как и
для остальных актёров, съёмки «Соломенной шляпки» были самым
настоящим праздником. Квинихидзе позволял артистам свободно
импровизировать, и с каждым днём фильм всё дальше уходил от
сценария. Например,
Михаил Козаков придумал, что его герой, виконт де Розальба –
несколько нетрадиционной ориентации; это, конечно, нигде не
артикулировалось напрямую, но подразумевалось в каждой реплике и в
каждой интонации. В комбинации с картавостью виконта эффект был
простоубийственным. Козакову говорили: «Ты что, с ума сошёл? Это
же никогда не пропустят!» Но Квинихидзе махнул рукой и разрешил
актёру развлекаться на полную катушку. Возможно, он решил: раз
съёмки всех сцен с этим персонажем заняли всего три дня, в случае
чего всё можно за другие три дня и переделать. Каким-то чудом
(возможно, в силу своей неиспорченности :))) киноначальство
не придралось к виконту и его грёзам о «моуоденьком-моуоденьком
пастушке», и роль, которую Михаил Михайлович по большому счёту
в грош не ставил, обернулась комедийным шедевром.
Например,
Михаил Козаков придумал, что его герой, виконт де Розальба –
несколько нетрадиционной ориентации; это, конечно, нигде не
артикулировалось напрямую, но подразумевалось в каждой реплике и в
каждой интонации. В комбинации с картавостью виконта эффект был
простоубийственным. Козакову говорили: «Ты что, с ума сошёл? Это
же никогда не пропустят!» Но Квинихидзе махнул рукой и разрешил
актёру развлекаться на полную катушку. Возможно, он решил: раз
съёмки всех сцен с этим персонажем заняли всего три дня, в случае
чего всё можно за другие три дня и переделать. Каким-то чудом
(возможно, в силу своей неиспорченности :))) киноначальство
не придралось к виконту и его грёзам о «моуоденьком-моуоденьком
пастушке», и роль, которую Михаил Михайлович по большому счёту
в грош не ставил, обернулась комедийным шедевром. Для
другого же Михаила (Боярского) «Соломенная шляпка» стала одним из
первых фильмов. Точнее, вторым: до этого он сыграл в молдавской
военной драме «Мосты», прошедшей сравнительно незаметно.
Для
другого же Михаила (Боярского) «Соломенная шляпка» стала одним из
первых фильмов. Точнее, вторым: до этого он сыграл в молдавской
военной драме «Мосты», прошедшей сравнительно незаметно.Сейчас сам Боярский вспоминает, что на роль итальянского тенора Нинарди его утвердили легко: «Я был волосат, чем-то похож на итальянца...» Текст на итальянском для него написали на листке русскими буквами и заставили вызубрить наизусть. Боярский выучил его так хорошо, что запросто может оттарабанить до сих пор.
 А вот на роль тихой невесты сначала утвердили Екатерину
Васильеву, но худсовет потребовал более миловидное и менее яркое
лицо. Тогда режиссёр взял никому неизвестную актрису ленинградского
ТЮЗа Марину Старых, которая очень зажималась рядом со
знаменитостями, что как раз и было нужно для образа. Екатерина
Васильева всё равно осталась в фильме и сыграла хозяйку шляпки, а
приехавший вместе с ней на съёмки драматург Михаил Рощин получил
крошечную роль фонарщика.
А вот на роль тихой невесты сначала утвердили Екатерину
Васильеву, но худсовет потребовал более миловидное и менее яркое
лицо. Тогда режиссёр взял никому неизвестную актрису ленинградского
ТЮЗа Марину Старых, которая очень зажималась рядом со
знаменитостями, что как раз и было нужно для образа. Екатерина
Васильева всё равно осталась в фильме и сыграла хозяйку шляпки, а
приехавший вместе с ней на съёмки драматург Михаил Рощин получил
крошечную роль фонарщика.Никто на съёмках «Шляпки» не работал для вечности, никто не думал, что этот фильм будут знать и любить целые поколения зрителей. Зато все получали от работы удовольствие, в том числе серьёзные актеры, звёзды ленинградского БДТ Владислав Стржельчик и Ефим Копелян (для него «Шляпка» оказалась одним из последних фильмов: артист скончался через два месяца после её телепремьеры, в марте 1975-го). Не относился к «Шляпке» серьёзно и Булат Окуджава и тем не менее написал замечательные тексты песен про незадачливого корнета и «Иветту, Лизетту, Мюзетту, Жанетту, Жоржетту». Рассказывают, кстати, что на последнюю поэта вдохновил список лошадей Портоса из романа «Виконт де Бражелон»: у мушкетёра в конюшне стояли Финетта, Гризетта, Лизетта и Мюзетта. Между прочим, Квинихидзе эту песню сначала забраковал: она показалась ему слишком печальной. Композитор Исаак Шварц упирался: «Но ведь герой женится, его вольная жизнь остаётся позади, конечно, он по ней тоскует!» Квинихидзе же настаивал, что такая грустная мелодия не подходит для водевиля. Но когда песню услышал Андрей Миронов, то пришёл в восторг и назвал «Иветту, Лизетту» настоящим подарком – лишь благодаря этому она и вошла в фильм...
 Кстати,
тот же Шварц возился с Мироновым очень долго: у одного из самых
блестящих поющих артистов советского кино не было ни певческого
голоса, ни по-настоящему тонкого слуха. Он изумительно это
маскировал своим актёрским мастерством, но репетиции перед записью
каждой песни требовались весьма основательные. В целом же съёмки
для Миронова не стали чем-то обременительным: скорее, он веселился
напропалую. На съёмках одного дубля, когда работа шла вяло,
Миронов, стоявший спиной к Михаилу Козакову, потихоньку облепил
себе зубы золотой фольгой от шоколадки, потом резко повернулся и
улыбнулся во весь рот. Козаков от неожиданности расхохотался.
Съёмку остановили. «Дубль был испорчен. Но следующий дубль был
весёлый!» – вспоминал потом Козаков.
Кстати,
тот же Шварц возился с Мироновым очень долго: у одного из самых
блестящих поющих артистов советского кино не было ни певческого
голоса, ни по-настоящему тонкого слуха. Он изумительно это
маскировал своим актёрским мастерством, но репетиции перед записью
каждой песни требовались весьма основательные. В целом же съёмки
для Миронова не стали чем-то обременительным: скорее, он веселился
напропалую. На съёмках одного дубля, когда работа шла вяло,
Миронов, стоявший спиной к Михаилу Козакову, потихоньку облепил
себе зубы золотой фольгой от шоколадки, потом резко повернулся и
улыбнулся во весь рот. Козаков от неожиданности расхохотался.
Съёмку остановили. «Дубль был испорчен. Но следующий дубль был
весёлый!» – вспоминал потом Козаков. А
помните эпизод, в котором Фадинар целует баронессу (Алиса
Фрейндлих) и обращается к синьору Нинарди со словами: «Рекомендую»?
Так вот: и этого тоже не было изначально в сценарии, и этот эпизод
был полной импровизацией самого Миронова. После этой неожиданной
«рекомендации», съёмочная группа ещё долго не могла перестать
смеяться. В целом, как уже говорилось, все актёры отмечали, что
атмосфера на площадке была максимально непринуждённой, поэтому
импровизации в ленте было достаточно много.
А
помните эпизод, в котором Фадинар целует баронессу (Алиса
Фрейндлих) и обращается к синьору Нинарди со словами: «Рекомендую»?
Так вот: и этого тоже не было изначально в сценарии, и этот эпизод
был полной импровизацией самого Миронова. После этой неожиданной
«рекомендации», съёмочная группа ещё долго не могла перестать
смеяться. В целом, как уже говорилось, все актёры отмечали, что
атмосфера на площадке была максимально непринуждённой, поэтому
импровизации в ленте было достаточно много.Вспоминает режиссёр Квинихидзе:
 Бюджет у картины был колоссальный, так что Квинихидзе не только
мог позволить себе пригласить на съёмки чуть ли не первых звёзд
советского кинематографа, но и подобрать идеальную съёмочную
локацию. И после продолжительных поисков авторы решили остановиться
на здании Тартуской ратуши. Эта старая ратуша (1789) стала одной из
главных киногероинь, показываясь по ходу фильма множество раз.
Снимали фильм и в Ленинграде (в особняке Александра Дмитриевича
Шереметева, в котором в то время располагался Дом писателей им.
В.В. Маяковского – по фильму он стал домом баронессы де
Шампиньи), в Петергофе (сцена в саду баронессы снималась у
Большой оранжереи). Также некоторые сцены снимали в интерьерах
ленинградского Дома литераторов. На Париж всё перечисленное
походило весьма отдалённо, но образ абстрактной европейской
«заграницы» получился вполне убедительным.
Бюджет у картины был колоссальный, так что Квинихидзе не только
мог позволить себе пригласить на съёмки чуть ли не первых звёзд
советского кинематографа, но и подобрать идеальную съёмочную
локацию. И после продолжительных поисков авторы решили остановиться
на здании Тартуской ратуши. Эта старая ратуша (1789) стала одной из
главных киногероинь, показываясь по ходу фильма множество раз.
Снимали фильм и в Ленинграде (в особняке Александра Дмитриевича
Шереметева, в котором в то время располагался Дом писателей им.
В.В. Маяковского – по фильму он стал домом баронессы де
Шампиньи), в Петергофе (сцена в саду баронессы снималась у
Большой оранжереи). Также некоторые сцены снимали в интерьерах
ленинградского Дома литераторов. На Париж всё перечисленное
походило весьма отдалённо, но образ абстрактной европейской
«заграницы» получился вполне убедительным. Да,
сама «Соломенная шляпка» тематически никак не связана с
празднованием Нового года, тем не менее эту картину показали
практически под бой курантов, когда чуть ли не вся страна прильнула
к экранам телевизоров. Совсем неудивительно, что фильм в одночасье
стал народным хитом, а многие поклонники ещё долго писали письма с
просьбами снять продолжение, которое в итоге так и не вышло. К
слову, именно после феноменального успеха «Соломенной шляпки»
Квинихидзе подал руководству ТВ-объединения «Ленфильма» прошение
снимать больше фильмов на тему главного праздника в Советском
Союзе. Получается, что в каком-то смысле именно картина Леонида
Александровича породила этот «тренд». Конечно, новогодние фильмы в
СССР снимали и до этого, но едва ли хоть один из них по
популярности сравнится с «Соломенной шляпкой», разве что
«Карнавальная ночь». А так, вероятно даже, что без фильма
Квинихидзе и без того его прошения мы бы и не увидели «Иронию
судьбы» (она вышла в следующем году), «Карнавал», «Чародеи»
и многие другие культовые фильмы, посвящённые тематике Нового
года.
Да,
сама «Соломенная шляпка» тематически никак не связана с
празднованием Нового года, тем не менее эту картину показали
практически под бой курантов, когда чуть ли не вся страна прильнула
к экранам телевизоров. Совсем неудивительно, что фильм в одночасье
стал народным хитом, а многие поклонники ещё долго писали письма с
просьбами снять продолжение, которое в итоге так и не вышло. К
слову, именно после феноменального успеха «Соломенной шляпки»
Квинихидзе подал руководству ТВ-объединения «Ленфильма» прошение
снимать больше фильмов на тему главного праздника в Советском
Союзе. Получается, что в каком-то смысле именно картина Леонида
Александровича породила этот «тренд». Конечно, новогодние фильмы в
СССР снимали и до этого, но едва ли хоть один из них по
популярности сравнится с «Соломенной шляпкой», разве что
«Карнавальная ночь». А так, вероятно даже, что без фильма
Квинихидзе и без того его прошения мы бы и не увидели «Иронию
судьбы» (она вышла в следующем году), «Карнавал», «Чародеи»
и многие другие культовые фильмы, посвящённые тематике Нового
года. Кстати, именно невероятный успех «Соломенной шляпки» и помешал
Людмиле Гурченко и Андрею Миронову попасть в вышеупомянутый фильм
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Сперва
Рязанов хотел снимать их в главных ролях, и актёры даже прошли
пробы, но их водевильная популярность заставила Рязанова
передумать. Он понял, что зрители не воспримут этих артистов
всерьёз и будут ждать музыкальной феерии, и начал поиск других
кандидатов. Но всё-таки Гурченко и Миронов в фильме появились: в
эпизоде, когда Ипполит включает телевизор, то там, если помните,
идёт именно «Соломенная шляпка» и показывают сцену с их участием
:)
Кстати, именно невероятный успех «Соломенной шляпки» и помешал
Людмиле Гурченко и Андрею Миронову попасть в вышеупомянутый фильм
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Сперва
Рязанов хотел снимать их в главных ролях, и актёры даже прошли
пробы, но их водевильная популярность заставила Рязанова
передумать. Он понял, что зрители не воспримут этих артистов
всерьёз и будут ждать музыкальной феерии, и начал поиск других
кандидатов. Но всё-таки Гурченко и Миронов в фильме появились: в
эпизоде, когда Ипполит включает телевизор, то там, если помните,
идёт именно «Соломенная шляпка» и показывают сцену с их участием
:)Это был третий выпуск моей "Весенней лИСтКУССТВенницы".
Подробнее про рубрику "лИСтКУССТвенница" читайте здесь.
|
|
</> |
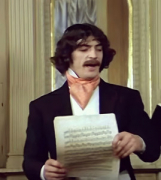

 Современные комплексные IT решения для бизнеса: автоматизация и развитие
Современные комплексные IT решения для бизнеса: автоматизация и развитие  Я - КОРОЛЕВА
Я - КОРОЛЕВА 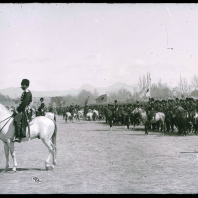 Персидская казачья бригада на центральной площади Тегерана
Персидская казачья бригада на центральной площади Тегерана  Сухая гроза: опасный и редкий природный феномен
Сухая гроза: опасный и редкий природный феномен 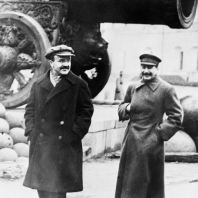 Корни "Посейдона" и "Буревестника"
Корни "Посейдона" и "Буревестника"  “Не судите меня”: чем питается Индия Хикс
“Не судите меня”: чем питается Индия Хикс  Грядет новая война... и возможно уже на днях...
Грядет новая война... и возможно уже на днях...  Леди Птица
Леди Птица  Истории любви
Истории любви